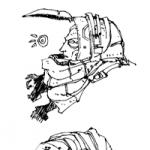Одну из особенностей лирической интонации Марины Цветаевой Иосиф Бродский определил как “стремление голоса в единственно возможном для него направлении: вверх”. Таким образом поэт передал свое ощущение от того, что он сам назвал “некоей априорной трагической нотой, скрытым – в стихе – рыданием”. Причину этого явления Бродский усматривал в работе Цветаевой с языком, ее опытах с фольклором. И действительно, многие цветаевские стихи могут быть восприняты как фольклорные стилизации. При этом неминуемо возникает вопрос – что Цветаева привносит в язык народной поэзии своего, в чем ее тексты похожи на исполняемые в народе песни, а в чем не похожи, и почему. Пока будем держать этот вопрос в голове и поговорим лишь о некоторых чертах поэтики Цветаевой, которые сближают ее поэзию с жанрами устного народного творчества (главным образом, лирическими). Отдельно скажем, что речь пойдет преимущественно о стихотворениях второй половины 1910-х годов (сборники “Версты I”, “Стихи о Москве”, “Стихи к Блоку”, “Стихи к Ахматовой” и некоторые другие).
Во многих стихотворениях Цветаевой обращают на себя внимание характерные для фольклорных жанров языковые формулы. Ее лирическая героиня зачастую использует в своей речи просторечия и диалектизмы:
То не ветер
Гонит меня по городу,
Ох, уж третий
Вечер я чую в?рога.
(“Нежный призрак…”)
Помимо типичной для народных песен синтаксической конструкции с отрицанием и словом “то” (вспомним зачин знаменитой песни “Ой, то не вечер…”) и просторечного, создающего интонацию причитания “ох, уж”, Цветаева в этой строфе использует еще и редкую форму слова “враг” – “в?рог”, которая в словаре Ушакова стоит с пометой “обл., нар.-поэт.”. Таким образом обычное, широко распространенное слово приобретает у нее непривычное, чуждое для нашего уха звучание.
К фольклору в стихотворениях Цветаевой отсылает и обилие традиционно-поэтической лексики, включающей многочисленные эпитеты (ср. “зорким оком своим – отрок”, “дремучие очи”, “златоокая вострит птица”, “разлюбезные – поведу – речи”, “крут берег”, “сизые воды”, “дивный град”, “багряные облака” и т.д.).
Даже в описания бытовых, житейских ситуаций у Цветаевой входят характерные для фольклорных жанров языковые формулы. Так, в стихотворении “Собирая любимых в путь…”, в котором речь идет об обычных проводах в дорогу, лирическая героиня заклинает природные стихии, чтобы они не навредили ее близким. Надо сказать, что обращения к внешним силам, от которых в жизни человека зависело очень многое, для народной культуры совершенно естественно. На их основе сложился особый жанр загово?ра, который предполагал произнесение нужных слов в строго определенном порядке. Цветаева в своем загово?ре использует типичную для этого жанра форму обращения – явления неживой природы выступают у нее как живые существа, на которые можно воздействовать:
Ты без устали, ветер, пой,
Ты, дорога, не будь им жесткой!
Туча сизая, слез не лей, –
Как на праздник они обуты!
Ущеми себе жало, змей,
Кинь, разбойничек, нож свой лютый…
Обратим внимание на то, что эпитеты в этих строках стоят после определяемого слова (“туча сизая”, “нож свой лютый”). Подобный тип языковой инверсии встречается во многих стихах Цветаевой (“день сизый”, “покой пресветлый”, “ночью темной”, “о лебеде молоденьком”, “Голуби реют серебряные, растерянные, вечерние…” и т.д.), свойственен он и жанру народной песни – как пишет В.Н. Бараков, “для русской песни характерно постпозитивное (после определяемых слов) употребление эпитетов” (ср. “Как пойду я, молоденька, / Как пойду я, веселенька…”, “Скидывают со девицы платье цветное, / Надевают на девицу платье черное”, “Волга-матушка родимая течет, / Друга милого, касатика несет”).
 |
В.Кандинский. Композиция VIII. Фрагмент |
Предметный мир, в который погружает Цветаева своего читателя, тоже связан с традиционной культурой – он как будто “перекочевал” в ее поэзию из народной сказки, легенды и других фольклорных жанров. Здесь и серебро, жемчуг, перстни, ворожба, сени, крыльцо; здесь и странницы, богомольцы, монашки, юродивые, знахари и т.д.
Много у Цветаевой и упоминаний часто встречающихся в народной поэзии животных и птиц. Причем, как и в фольклоре, поэт говорит о животных, а имеет в виду людей. В этом можно увидеть, с одной стороны, традиционное для фольклора изображение чудесного оборачивания человека животным или птицей, а с другой – поэтический прием, скрытое сравнение. Как и в народном творчестве, у Цветаевой чаще всего встречаются образы голубя, лебедя, орла: “На страшный полет крещу Вас: / Лети, молодой орел!”, “Мой выкормыш! Лебеденок! / Хорошо ли тебе лететь?”, “Материнское мое благословение / Над тобой, мой жалобный / Вороненок”, “Снежный лебедь / Мне п?д ноги перья стелет” и т.д. (Ср. в народных песнях: “Ты мой сизенький, мой беленький голубочек, / Ты к чему рано с тепла гнезда слетаешь, / На кого ты меня, голубушку, покидаешь?”, “Скажу я милому про свое несчастье: / – Сокол ты мой ясный, молодец прекрасный, / Куда отъезжаешь, меня покидаешь?..”.)
Различные маски надевают на себя не только персонажи Цветаевой, но и сама лирическая героиня. Она примеривает на себя роль “смиренной странницы”:
И думаю: когда-нибудь и я <…>
Надену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по калужской.
(“Над синевою подмосковных рощ…”)
Оборачивается ворожеей:
На крыльцо выхожу – слушаю,
На свинце ворожу – плачу.
(“На крыльцо выхожу – слушаю…”)
Именует себя “чернокнижницей”:
Чтоб не вышла, как я, – хищницей,
Чернокнижницей.
(“Канун Благовещенья…”)
Принимает облик московской боярыни:
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.
(“Настанет день – печальный, говорят!”)
В том числе из-за этой бесконечной игры в переодевания М.Л. Гаспаров определил зрелую поэзию Цветаевой как “ролевую”, или “игровую”, лирику. Надо сказать, что и в этой особенности поэтики Цветаевой можно увидеть родство с народной культурой, с ее многовековой карнавальной традицией. Как пишет М.М. Бахтин, “одним из обязательных моментов народно-праздничного веселья было переодевание, то есть обновление одежд и своего социального образа”. Во всех этих случаях можно говорить не просто о сравнении – персонажи Цветаевой вживаются в различные образы, при этом грань между человеком и его ролью оказывается предельно зыбкой.
Цветаева использует еще один тип сравнения, при котором определяемый предмет оказывается максимально приближен к предмету, с которым он сравнивается, – речь идет о сравнении, выраженном существительным в творительном падеже:
Кошкой выкралась на крыльцо,
Ветру выставила лицо…
Если частицы “как”, “будто”, “словно” указывают на раздельность сопоставляемых предметов в сравнительном обороте, то из сравнения в форме творительного падежа эта дистанция уходит. В жанрах устного народного творчестве при сравнении в форме творительного падежа в качестве объекта сравнения, как правило, выступает человек, который сравнивается с животным или растением, то есть с явлением окружающего человека мира природы:
И я улицею – серой утицею,
Через черную грязь – перепелицею,
Под воротенку пойду – белой ласточкою,
На широкий двор зайду – горностаюшкою,
На крылечушко взлечу – ясным соколом,
Во высок терем взойду – добрым молодцем.
Подобная форма сравнения предполагает нерасчленение мира людей и мира природы; это не просто грамматический прием – в нем отразилось традиционное для народной культуры представление о единстве этих двух миров, согласно которому происходящее в жизни людей подобно тому, что происходит в мире природы.
Эти воззрения заложили основу для такой композиционной особенности многих фольклорных произведений, которую А.Н. Веселовский назвал параллелизмом, а его наиболее распространенный тип – двучленным параллелизмом. Общая формула его такова: “картинка природы, рядом с нею таковая же из человеческой жизни; они вторят друг другу при различии объективного содержания, между ними проходят созвучия, выясняющие то, что в них есть общего”. Например:
Отломилась веточка
От садовой от яблоньки,
Откатилось яблочко;
Отъезжает сын от матери
На чужу дальню сторону.
Не белая березка нагибается,
Не шатучая осина расшумелася,
Добрый молодец кручиной убивается.
Этот же прием уже сознательно использует Марина Цветаева. Чтобы убедиться в этом, прочитаем одно из стихотворений первого выпуска “Верст”:
Посадила яблоньку:
Малым забавоньку,
Старым – младость,
Садовнику – радость.
Приманила в горницу
Белую горлицу:
Вору – досада,
Хозяйке – услада.
Породила доченьку –
Синие оченьки,
Горлинку – голосом,
Солнышко – волосом.
На горе девицам,
На горе молодцам.
Это стихотворение состоит из трех строф. В первых двух строфах описываются действия неназванной героини стихотворения, направленные на явления окружающего ее природного мира (“Посадила яблоньку…”; “Приманила в горницу / Белую горлицу…”), а также говорится о том, каков результат этих действий для третьих лиц (“Малым – забавоньку, / Старому – младость, / Садовнику – радость”; “Вору – досада, / Хозяйке – услада”). Однако читателю ясно, что основное и самое важное действие описывается в третьей строфе (она к тому же самая большая). Заметим в скобках, что и в фольклорных текстах всегда “перевес на стороне того <мотива>, который наполнен человеческим содержанием”.
Третья строфа описывает действие, направленное на человека, в данном случае – на дочь. Эта строфа также построена по образцу предыдущих: вначале говорится о самом действии (“Породила доченьку – / Синие оченьки”), а затем о том, как это действие скажется на других (“На горе девицам, / На горе молодцам”). Интересно, что явления природного мира не уходят и из третьей строфы: “доченька” сравнивается с горлинкой и солнышком (“Горлинку – голосом, / Солнышко – волосом”).
Наконец, главное, что сближает многие стихи М.Цветаевой с произведениями устного народного творчества, – это многочисленные повторы, в связи с чем М.Л. Гаспаров писал о “рефренном строе” ее поэзии. Не случайно композиторы с такой охотой перекладывали стихи Цветаевой на музыку.
Как пишет С.Г. Лазутин, “…принцип повтора является важнейшим в композиции традиционной народной лирической песни. Этот принцип всецело и вполне согласуется с особенностями ее синтаксиса и мелодической структуры. Наиболее отчетливо композиционный принцип повтора проявляется в хороводных песнях, где он поддерживается повторением определенных действий, хороводных движений”. В качестве примера Лазутин приводит песню “Улица узкая, хоровод большой”, она начинается такой строфой:
Улица узкая, хоровод большой,
Разодвинься, когда я, млада, разыгралась!
Я потешила батюшку родного,
Прогневала свекора лютого.
Затем эта строфа повторяется еще четыре раза, причем на месте батюшки и свекра из первой строфы оказываются “родная матушка” и “свекровь лютая”, “брат родной” и “деверь лютый”, “сестра родная” и “золовка лютая” и, наконец, “друг милый” и “муж постылый”.
Впрочем, повторяемость языковых формул и ситуаций характерна и для других жанров фольклора, например, для лирических песен. Вот только некоторые примеры:
…У соседа будет мой милый, хороший,
Мой милый, пригожий, белый, кудреватый,
Белый, кудреватый, холост, не женатый…
…Как сказали про милого,
Будто нежив, нездоров,
Будто нежив, нездоров,
Будто без вести пропал.
А как нынче мой милой
Вдоль по улице прошел,
Вдоль по улице прошел…
У Цветаевой такого рода повторы становятся едва ли не основным композиционным приемом в очень многих стихотворениях. И примеров здесь может быть очень много, приведем только некоторые:
Не люби, богатый, – бедную,
Не люби, ученый, – глупую,
Не люби, румяный, – бледную,
Не люби, хороший, – вредную:
Золотой – полушку медную!
(“Не люби, богатый, – бедную…”)
Юношам – жарко,
Юноши – рдеют,
Юноши бороду бреют.
(“Юношам – жарко…”)
Привычные к степям – глаза,
Привычные к слезам – глаза,
Зеленые – соленые –
Крестьянские глаза!
(“Глаза”)
Все последующие строфы стихотворения “Глаза” оканчиваются одним и тем же словом, которое вынесено в заглавие – таким образом постепенно раскрывается содержание основного для стихотворения образа. При этом, как и в песенном припеве, Цветаева предлагает читателю разные варианты: глаза у нее или “зеленые”, или “крестьянские”. В третьей строфе определение вовсе отсутствует – она завершается словосочетанием “потупивши глаза”.
Повторение одних и тех же групп слов в сходных метрических условиях является одной из основополагающих особенностей устного народного творчества. Эти повторения обеспечивают устойчивость фольклорных жанров, благодаря им текст остается самим собой вне зависимости от того, кто в данный момент его исполняет. Разные сказители могут изменять порядок повествования (переставлять строки и т.д.), вносить добавления или уточнения. Более того, эти изменения неизбежны, поэтому одним из важнейших качеств фольклора является его вариативность. Однако, как пишет Б.Н. Путилов, “категория вариативности связана с категорией устойчивости: варьировать может нечто обладающее устойчивыми характеристиками; варьирование немыслимо без стабильности”. Как уже было сказано выше, эта стабильность создается в том числе благодаря формульности поэтического языка.
| Понятие формульности было введено американским и английским фольклористами М.Пэрри и А.Лордом. Разработанную ими теорию называют еще “устной теорией”, или “теорией Пэрри-Лорда”. Проблема авторства приписываемых Гомеру поэм “Илиада” и “Одиссея” побудила Милмэна Пэрри предпринять в 1930-е годы две экспедиции в Боснию, где он изучал функционирование живой эпической традиции, а затем сравнил южнославянский эпос с текстами Гомера. В процессе этой работы Пэрри выяснил, что техника устного эпического сказительства предполагает обязательное использование набора поэтических формул, которые помогают исполнителю импровизировать, “сочиняя” на ходу тексты большого объема. Понятно, что слово “сочинять” в данном случае может использоваться лишь в кавычках – исполнитель фольклорных текстов не является автором в традиционном смысле этого слова, он лишь по-своему состыковывает уже готовые элементы текста, формулы. Эти формулы уже существуют в культуре, сказитель их только использует. Формульный характер отличает не только эпическую поэзию, он присущ народному творчеству в целом. |
Между тем, повторы у Цветаевой выполняют совершенно иную функцию, нежели в текстах народной поэзии. Они создают впечатление неустойчивости поэтического слова, его вариативности, постоянного, непрекращающегося поиска нужного слова для выражения того или иного образа. Как пишет М.Л. Гаспаров, “…у Цветаевой… центральным образом или мыслью стихотворения является повторяющаяся формула рефрена, предшествующие рефренам строфы подводят к нему каждый раз с новой стороны и тем самым осмысляют и углубляют его все больше и больше. Получается топтание на одном месте, благодаря которому мысль идет не вперед, а вглубь, – то же, что и в поздних стихах с нанизыванием слов, уточняющих образ”. При этом уточняться может смысл центрального понятия:
Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина.
(“Обвела мне глаза кольцом…”)
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет…
(“Настанет день – печальный, говорят…”)
Или представление о центральном понятии углубляется благодаря уточнению его звучания:
Но моя река – да с твоей рекой,
Но моя рука – да с твоей рукой
Не сойдутся, Радость моя, доколь
Не догонит заря – зари.
(“У меня в Москве – купола горят…”)
Об этой же черте поэтики Цветаевой, предполагающей постоянный поиск нужного, более точного слова, пишет И.Бродский. Анализируя посвященное Р.М. Рильке стихотворение “Новогоднее”, Бродский особенно выделяет такие строки:
Первое письмо тебе на новом
– Недоразумение, что злачном –
(Злачном – жвачном) месте зычном, месте звучном,
Как Эолова пустая башня.
Бродский называет этот отрывок “замечательной иллюстрацией, характерной для цветаевского творчества многоплановости мышления и стремления учесть все”. По его словам, Цветаева – поэт, “не позволяющий ни себе, ни читателю принимать что-либо на веру”. У нее “нет ничего поэтически априорного, ничего не поставленного под сомнение... Цветаева все время как бы борется с заведомой авторитетностью поэтической речи”.
Таким образом, мы видим, что следование традиции народной поэзии в данном случае оказывается у Цветаевой чисто формальным. Появление повторов обусловлено особенностями ее поэтического мышления, отвечает ее собственным творческим задачам, а вовсе не является лишь следствием внешнего копирования. Надо сказать, что и стилизация других приемов народной поэзии не мешает проявлению в поэзии Цветаевой яркой авторской индивидуальности, что в фольклоре в принципе невозможно. Ее стихи мы никогда не перепутаем с произведениями устного народного творчества. Ритмические, тематические, лексические и другие отличительные черты народной поэзии Цветаева искусно сочетает с тем, что отличает ее поэтический язык (многочисленными цезурами, переносами и т.д.). Да и темы стилизованной под народные стихи цветаевской поэзии для фольклора совсем не характерны, их появление обусловлено интересами самой Цветаевой, ее глубоко личным отношением к собственному и чужому творчеству, к окружающему ее миру и т.д.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бараков В.Н. Отчизна и воля. Книга о поэзии Николая Рубцова. Вологда: “Книжное наследие”, 2005.
2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. С. 94.
3. Бродский И . “Об одном стихотворении”. // Сочинения Иосифа Бродского в 4 тт. СПб.: Изд-во “Пушкинский фонд”, 1995. Т. 4. С. 88; 89; 90.
4. Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля. // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. С. 107; 113.
5. Гаспаров М.Л. Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова. // О русской поэзии: Анализы: Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001. С. 136–149.
6. Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора. М.: Высшая школа, 1981.
7. Путилов Б.Н . Фольклор и народная культура. СПб.: Наука, 1994.
8. Русский фольклор / Сост. и примеч. В. Аникина. М.: Худож. лит., 1986. С. 113; 115–116.
Е. ЛЕЕНСОН,
г. Москва
Сочинение: Цветаева. М.И. - Разное - "«Москва! Какой огромный странноприимный дом!»"
"«Москва! Какой огромный странноприимный дом!»"
«МОСКВА! КАКОЙ ОГРОМНЫЙ СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ!»
В дивном граде сем, В мирном граде сем, Где и мертвой мне Будет радостно... М. Цветаева Родившись и проведя детство в Москве и тихой подмосковной Тарусе, Марина Ивановна Цветаева на всю жизнь сохранила признательность и теплоту к родным местам. Как бы ни было тяжело и горько в отдельные годы жизни, она с теплотой вспоминала уютную профессорскую квартиру, бурные пассажи матери на рояле, безмятежное и счастливое детство, и в памяти всплывал родной город. Облака - вокруг, Купола - вокруг. Надо всей Москвой - Сколько хватит рук! - Возношу тебя, бремя лучшее, Деревцо мое Невесомое! Где бы ни жила Цветаева впоследствии, она не могла забыть Россию, свой родной город, ставший для нее путеводной звездой, в который в конце концов надеялась вернуться. Из рук моих - нерукотворный град Прими, мой странный, мой прекрасный брат. По церковке - все сорок сороков И реющих над ними голубков... Надо было обладать мужеством и огромной волей, чтобы, оказавшись в эмиграции, заброшенной и позабытой, сохранять в душе теплое чувство к родине, не озлобиться, не проклясть всех. У Цветаевой хватило сил остаться самой собой, не переносить обиды, несправедливо нанесенные людьми, на родной город, казалось, отторгнувший ее. Марина Ивановна понимала, что «людишки творят ее судьбу», а любовь к России и Москве - вечна, переживет десятилетия, когда восторжествует справедливость. Настанет день - печальный, говорят! - Отцарствуют, отплачут, отгорят, - Остужены чужими пятаками, - Мои глаза, подвижные, как пламя. И - двойника нащупавший двойник - Сквозь легкое лицо проступит - лик. О, наконец тебя я удостоюсь, Благообразия прекрасный пояс! Горечью веет от этих строк, оказавшихся пророческими. Поэт часто может предвидеть события и свою судьбу. И как бы ни была решительна и смела Марина Ивановна, тяготы жизни, разлука с родиной настраивали ее на грустный лад. Она всей душой стремилась в Россию, никогда не считала себя эмигранткой (выехала из России за мужем - белым офицером), не писала хулу о советской стране, занималась творчеством, всей душой была с родиной. И стихи о России и Москве поддерживали дух автора, заставляли сохранять ту линию, которую Марина Ивановна выбрала изначально: никакой злобы против страны, взрастившей ее. Цветаева не приняла революцию. Всяческие перемены и кровавые распри были чужды ей. Но шли годы, и пристальнее она вглядывалась в далекую и желанную родину, радовалась ее успехам. Никакие красоты мира не могли заменить Марине Ивановне Россию, она была и осталась истинной патриоткой. До Эйфелевой - рукою Подать! Подавай и лезь. Но каждый из нас - такое Зрел, зрит, говорю, и днесь, Что скушным и некрасивым Нам кажется ваш Париж. «Россия моя, Россия, Зачем так ярко горишь?»
Настанет день - печальный, говорят!
Отцарствуют, отплачут, отгорят,
Остужены чужими пятаками -
Мои глаза, подвижные как пламя.
И - двойника нащупавший двойник -
Сквозь легкое лицо проступит лик.
О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!
А издали - завижу ли и Вас? -
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.
На ваши поцелуи, о живые,
Я ничего не возражу - впервые.
Меня окутал с головы до пят
Благообразия прекрасный плат.
Ничто меня уже не вгонит в краску,
Святая у меня сегодня Пасха.
По улицам оставленной Москвы
Поеду - я, и побредете - вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, -
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.
1-й день Пасхи
[Цветаева I; 270-271]
Тело и телесное - значимая сфера культуры и, соответственно, особенный элемент поэтики художественного текста: телесное может обозначать различные смыслы, оно не является асемантичным, не равно самому себе (о семиотике и семантике функций тела в литературе см. прежде всего [Фарыно III: 112-121], ср.: [Фарыно 1991: 200-228]). Исключительно важную роль тело и его органы играют в поэтике т. н. «исторического авангарда», к которой принадлежит и творчество М.Цветаевой (об этом термине и о функциях телесного в «историческом авангарде» см. прежде всего: [Смирнов 1977: 117; Деринг-Смирнова, Смирнов 1982; Маймескулов 1992]). На первый взгляд, семантика тела в анализируемом стихотворении М.Цветаевой традиционна для христианской традиции; ее можно описать теми же словами, какими Е.Фарыно охарактеризовал трактовку тела в цветаевском поэтическом цикле «Бессонница»: «<…> “я” постепенно теряет свою телесность и приближается к статусу ангелоподобного бесплотного существа (“как серафим”, “я гость небесный”)» [Фарыно III: 114]. Индивидуально цветаевскими инвариантными мотивами является не такое отчуждение от собственного тела, а вбирание мира в себя («раковинная природа» «я») и истолкование чувственного начала как неотъемлемого свойства, присущего мифологическому естеству «я» [Фарыно III: 113-117].
Действительно, в стихотворении «Настанет день - печальный, говорят!» прежнему состоянию страстности, обозначенному «пламенем» горячих (ныне остуженных ») глаз и «поясом» («пояс» ассоциируется с неприступностью, целомудренностью или девственностью - ср. символику развязывания пояса в античной поэзии), противопоставлена теперешняя бесстрастность, «благообразие», достигнутые в смерти. Обретённое героиней бесстрастие-благообразие может интерпретироваться как вариант «существеннейшей в поэтической системе Цветаевой семантики отказа от пола» [Маймескулов 1995: 277] (о категории пола в поэзии М.Цветаевой см.: [Гаспаров 1982: 130; Ельницкая 1990: 102, 332-333, прим. 87; Ревзина 1977: 63; Фарыно 1978: 127-128; Фарыно 1985а: 294, 376, прим. 79]). Наделение руки лирической героини признаком не-существования («к моей руке, которой больше нет») - средство обозначить именно такое отчуждение «я» от собственного тела, ставшего бесчувственным и потому не-реальным, по крайней мере в сравнении с прежним, до-смертным состоянием. Тело, преображенное смертью, приобретает признаки святости. Прежде всего, это свойство выражено в оппозиции «лицо - лик»: церковнославянизм «лик» в данном контексте, в описании погребения и рядом с упоминанием о Пасхе, наделен сакральными коннотациями; «лик» - это образ, икона и это просветленное божественным духом лицо святого. Синоним слова «икона» - «образ» - зашифрован в лексеме «благообразие», воспринимающейся как окказиональное производное от образа-иконы: «О, наконец тебя я удостоюсь, // Благообразия прекрасный пояс!»; «Меня окутал с головы до пят // Благообразия прекрасный плат». Употребление слова «лик» в цветаевской поэзии и в других случаях связано с семантикой преображения, «истончения» плоти, отрешения от земного мира и его страстей: «Нежно светлеют губы, и тень золоче / Возле запавших глаз. Это ночь зажгла / Этот светлейший лик, - и от темной ночи / Только одно темнеет у нас - глаза» («После бессонной ночи слабеет тело…» из цикла «Бессонница» [Цветаева I: 283]; анализ этого цикла см. в работе: [Фарыно 1978]; мотив «истончения» плоти прослеживается и в цикле «Магдалина» [Фарыно 1985а]). Целование руки покойной, очевидно, наделено признаками приложения к мощам святой: не случайно, провожающие умершую лирическую героиню названы паломниками : «Паломничество по дорожке черной».
Такая семантика телесного кода может показаться тривиальной; не тривиально в ней лишь самоопределение лирической героиней себя как святой. Однако на самом деле механизм смыслопорождения в стихотворении намного более сложен, а значения, передаваемые с помощью телесного кода, внутренне противоречивы, амбивалентны.
Прежде всего, новое (святое ) тело, обретенное лирической героиней, не есть в полной мере ее, не принадлежит ей: руки «больше нет», а значит, в экзистенциальном смысле нет теперь и ее тела. Иконописный лик святого мыслится как выражение в нем неизменного, вечного, божественного, то есть сущностного. А в цветаевском тексте «лик» назван «двойником» «лица» живой героини, - двойничество же означает не сущностное тождество, а лишь повторение похожего или одного и того же, ассоциируется с узурпацией и подменой. М.Цветаева наделяет «лицо» эпитетом «легкое», имеющим несомненные позитивные коннотации, ассоциирующимся со свободой от материи, от плотской тяжести; традиционное ожидание требовало бы скорее, чтобы такой признак был присущ «лику». Лишенный эпитета «легкий», в соотношении с «лицом» «лик» воспринимается как его антоним, как нечто тяжелое. Тяжелый лик вызывает ассоциации с маской, в том числе посмертной. Маска же инородна по отношению к лицу и к «я». Впрочем, в тексте содержатся и указания на возможность традиционной интерпретации соотношения земной плоти и плоти преображенной. «Легкое» может иметь и пейоративные коннотации, как легковесное. А проступание «лика» сквозь «лицо» позволяет истолковывать бренную плоть «я» только лишь как оболочку для истинной сущности. «Легкое лицо» - это истончающаяся в смерти плоть, через которую и проступает неизменный, вечный лик. Однако представляется несколько неожиданным, что плоть / лицо служит оболочкой для иной плоти / лика, а не для души, как это было бы в традиционном случае. Цветаевская героиня словно бы наделена двойным телом - до- и по-смертным.
Лексема «нащупавший» в применении к «лику» ощущается также как неожиданная. Это слово, обозначающее тактильные ощущения, ассоциируется со слепотой: нащупывает нечто слепой, тот, кто лишен зрения. И действительно, «лик» в стихотворении Цветаевой слеп: ведь у него нет глаз, которые «отгорели»; их заменяют холодные и «чужие» пятаки. Преображение тела святого, его нетление в христианской традиции связывается с просветлением. Между тем, в стихотворении «Настанет день - печальный, говорят!» «лик» скорее темный, чем светлый. Семантика темноты, не-света и пейоративные коннотации, связанные со смертью и погребением героини, очевидны в эпитете «черная» из следующей строфы: «Потянется, растерянно крестясь, / Паломничество по дорожке черной».
Свет, имеющий в поэзии М.Цветаевой высокий ценностный смысл, в своем роде сакральный, представлен как атрибут лирического «я», обладающего светоносным взглядом; пример: я - световое око в поэме «Попытка комнаты» (о светоносной природе я у М.Цветаевой см.: [Фарыно 1985а: 364, прим. 24] и [Фарыно 1985б:; 52]. По наблюдениям Е.Фарыно, для М.Цветаевой характерны оппозиции «око - глаз» и «око - зрак», в которых первый элемент получает коннотации «сакральное», а второй - «демоническое» [Фарыно 1985а: 92, прим. 48; 95, прим. 57; Фарыно 1986: 21].
Впрочем, в цветаевской поэзии слепота, незрячесть может приобретать и позитивный смысл отрешенности от внешнего, поверхностного, суетного, она выражает взгляд «я» внутрь себя: «На ложе из лож / Сложившим великую ложь лицезренья, / Внутрь зрящим - свидание нож» («Эвридика - Орфею» [Цветаева II; 183]; слепота - метафорический эквивалент высшего зрения поэта: «Что же мне делать, слепцу и пасынку, / В мире где каждый и отч и зряч» («Что же мне делать слепцу и пасынку…» из цикла «Поэты» [Цветаева II; 185]).
Смерть в стихотворении М.Цветаевой «Настанет день - печальный, говорят!» наделена двойственной, амбивалентной семантикой. Она может быть истолкована как освобождение духовного начала. Сама физическая, плотская кончина парадоксальным образом связывается с воскресением, она именуется Пасхой: «Святая у меня сегодня Пасха». Написание стихотворения действительно приурочено к Пасхе 1916 года, и это событие является не чисто биографическим обстоятельством, а текстовым фактором: дата написания намеренно указана автором. Эта метафорическая «Пасха» лирической героини вызывает ассоциации с истинной Пасхой - Воскресением Христовым и потому приобретает коннотации побежденной, преодоленной, не-абсолютной смерти. «Благообразия прекрасный плат», наделенный такими оттенками значения, как новое, преображенное, чуждое страстей тело , в свете этой христологической параллели соотносится с погребальной плащаницей Христа: это ткань, в которую заворачивают тело («с головы до пят»). Кроме того, он, вероятно, ассоциируется и с покровом Богоматери, как пояс - с ризами Приснодевы Марии. Плат в стихотворении «Настанет день - печальный, говорят!» также - метафора тела, как в стихотворении «О путях твоих пытать не буду» из цикла «Магдалина» тело героини уподоблено плащанице, в которую было завернутого тело снятого с креста Иисуса Христа: «Я был наг, а ты меня волною / Тела - как стеною / Обнесла» [Цветаева II: 222]. Имплицитно в этом образе также содержится и параллель с символом Богоматери - Нерушимой Стены. (В других контекстах у М.Цветаевой «покров» может означать тело человека - отринутое, отброшенное в смерти: «Для тех, отженивших последние клочья / Покрова (ни уст, ни ланит!…)» - «Эвридика - Орфею» [Цветаева II: 183].
В предпоследней строфе стихотворения благодаря грамматической конструкции предложения погребальная процессия, в которой мертвое тело - объект, а не субъект действия, предстает путешествием живой героини: «По улицам оставленной Москвы / Поеду - я, и побредете - вы». Нейтральная, нормативная конструкция была бы иной: меня повезут . Мотив причастности героини миру живых, а не мертвых создается также благодаря грамматическому параллелизму конструкций, описывающих погребаемую героиню и провожающих ее живых людей: «Поеду -я, и побредете - вы». Выражение «себялюбивый, одинокий сон» в стихах «И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон» - это вариация метафоры традиционной метафоры «жизнь есть сон, смерть - пробуждение», свидетельствующая также об относительности смерти и о ее возможном восприятии как некоего блага, освобождающего от иллюзорных притязаний эгоистического земного «я».
Но одновременно смерть, о которой говорится в этом стихотворении, может быть истолкована и как уничтожение «я». На это указывает не только упоминание об угасших глазах (зеркале души ), разрыв между «лицом» живой и «ликом» мертвой героини и отчуждение от собственного тела, метонимически обозначенное «рукой, которой больше нет». Вечный покой, бесстрастность может интерпретироваться не только как духовное состояние святой, но и как бесчувственность умершей, мертвого тела. По-смертное тело лирической героини ей, ее «я» не принадлежит. Не случайно, говорится только о теле, но не о душе покойной: подразумеваемая душа или уже вне тела, или перестала существовать. По крайней мере, уничтожению подверглось «я» героини - страстное и потому немыслимое вне тела. Если оставшееся тело и наделено некими чертами святости, неотмирности, вечности / нетленности, то это в экзистенциальном смысле не ее тело. Смерть - одновременно преображение и уничтожение тела. Разделяя душу и тело, она ведет к уничтожению, стиранию «я» и к возникновению бестелесного тела, бесплотной плоти. Изначально героиня как будто бы стремится к освобождению от страстей: «О, наконец тебя я удостоюсь, / Благообразия прекрасный пояс!». Но обретенное ею состояние оказывается либо безусловной смертью, либо покоем и бесчувствием нового, другого тела, которому соответствует другое «я»: через двойничество тел обозначены два разных «я».
Такому телесному и душевному / духовному двойничеству соответствует дуальный характер темпоральной структуры текста. Смерть / преображение представлено то как событие воображаемого будущего: «Настанет день»; «Отцарствуют <…> мои глаза»; «проступит лик»; «Потянется <…> паломничество»; «не возражу»; «не вгонит в краску»; «Поеду - я»; «И первый ком о крышку гроба грянет»; «И наконец-то будет разрешен себялюбивый, одинокий сон», то как событие, совершившееся в недавнем прошлом: «Меня окутал с головы до пят / Благообразия прекрасный плат». Грамматические формы настоящего времени в строках «К моей руке, с которой снят запрет, / К моей руке, которой больше нет» имеют перфектное значение, указывая на смерть как на недавно произошедшую. Восприятие своей кончины как совершившейся в прошлом, по-видимому, отражает точку зрения «я», перешедшего в вечность; земное «я» мыслит эту кончину как принадлежащую будущему. В настоящем времени финальных стихов «И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине» оппозиция «прошлое - будущее» снято, соответственно, земное и потустороннее, по-смертное «я» обретают здесь некое условное единство, будучи обозначенными именем собственным героини и автора. Показательно, что семантически выделенная часть стихотворения - последняя строфа, завершающаяся итоговым pointe, - это описание не освобождения, не преображения тела героини, но его погребения: «И первый ком о крышку гроба грянет, - / И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон. / И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине». Пасха лирической героини не воскресение, а непреодолимая смерть. Параллель с Христом, но не воскресшим, а ведомым на распятие, прослеживается и в последней строке стихотворения: как ученики отвернулись от Спасителя, так и провожающие героиню в последний путь не все доходят до могилы: «И не один дорогою отстанет». В противоположность Христу героиня Цветаевой не воскресает и не воскреснет: ее Пасха - это и есть ее смерть.
Знаменательна замена в последней строке личного местоимения первого лица «я» и производных от него форм «мои», «моей» выражением «болярыня Марина»: эта замена означает одновременно отчуждение «я» от себя самого (взгляд на себя извне) и не-существование, исчезновение «я».
Итак, смерть в стихотворении М.Цветаевой представлена, с одной стороны, как преображение, с другой - как переход в небытие. При первой трактовке метафизической или экзистенциальной иронии подвергнуты знаки смерти, уничтожения, оказывающиеся ложными, несостоятельными. При второй трактовке трагическая ирония обволакивает образы воскресения (Пасхи), преображения. Такая амбивалентность присуща цветаевскому тексту и в другом случае: двойственной семантикой в нем наделено целование рук. Это и эротический поцелуй, поцелуй руки поклонником («Вы» как он , единственный, поцелуи, которые при жизни смутили бы героиню), и целование мощей / иконы.
Преображение / уничтожение лирической героини в смерти, представленное в стихотворении «Настанет день - печальный, говорят!» как бы в сжатом виде соединяет несколько вариантов соотношения «я», души и тела, свойственных цветаевской поэзии. Трактовка смерти как разделения души и тела, приводящая к небытию, к развоплощению, представлена в первом и втором стихотворениях из цикла «Надгробие». Ни погребенное в земле тело (кость), ни вознесшаяся в небесные сферы душа не воплощают, не сохраняют умершее «я»: «Нет, никоторое из двух: / Кость слишком - кость, дух слишком - дух»; «Не ты - не ты - не ты - не ты. / Чтó бы ни пели нам попы, / Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, - / Бог - слишком Бог, червь - слишком червь»; «На труп и призрак - неделим!» [Цветаева II: 325-326]. М.Цветаева, полемизируя с державинской духовной одой «Бог», где человек мыслится одновременно как бог (т. е. духовное начало) и червь (телесное начало, слабость, смертность), утверждает, что «Бог» и «червь», дух и мертвая плоть в их разделенности никак не причастны «я» человека. При этом речь идет скорее не об отрицании бессмертия души, но именно о том, что она не есть «я» умершего.
Однако наряду с трактовкой смерти как перехода «я» в абсолютное небытие в лирике М.Цветаевой содержится интерпретация истинной жизни «я» как непричастности материальному, «телесному» миру: смерть в этом случае мыслится как освобождение: «А может, лучшая победа / Над временем и тяготеньем - / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени // На стенах… / <…> / Распасться, не оставив праха // На урну…» («Прокрасться…» [Цветаева II: 199], анализ этого стихотворения см.: [Фарыно 1987]). Не-оставление следа в материальном мире, в том числе и после смерти, мыслится не как не-существование, но как бытие истинное. Смерть в таком случае должна быть квинтэссенцией освобождения.
Сходная трактовка смерти как освобождения, как желанного развоплощения дана в цикле стихотворений «Дочь Иаира», полемически «переписывающем» евангельский сюжет о воскрешении умершей девицы Христом. У М.Цветаевой воскрешение - не благо, а зло или опрометчивое и недолжное деяние (ср. сходную трансформацию в ее творчестве мифа о приходе Орфея в Аид, чтобы вывести из царства смерти Эвридику): «В просторах покроя - / Потерянность тела, /, Посмертная сквозь. // Девица, не скроешь, / Что кость захотела / От косточки врозь» [Цветаева II: 96]. Смерть мыслится здесь как освобождение, утрата тела, к которой стремится, которой жаждет плоть (кость ). Смерть истолкована и описана как преображение плоти, превращение ее в тонкую проницаемую материю («сквозь» здесь окказионализм, существительное). Мертвая плоть наделяется знáком особенной интенсивной жизненности - загаром: «С дороги не тронется / Отвесной. - / То Вечности / Бессмертный загар» [Цветаева II: 97]. Этот же образ смертно-бессмертного загара встречается в стихотворении «На пушок девичий, нежный -», написанном в одно время с «Дочерью Иаира»: «На пушок девичий, нежный - / Смерть серебряным загаром» [Цветаева II: 97]. Парадоксальное сближение смерти и загара мотивировано трактовкой смерти как сожжения и самосожжения (ср. в лирике М.Цветаевой самоидентификацию «я» с Жанной д’Арк, сжигаемой на костре).
Традиционный концепт тела как противоположности духу и душе, восходящий, по-видимому, к платоновской и к неоплатонической и к связанной с ними гностической философским системам, представлен в стихотворении «Жив, а не умер…»: В теле как в трюме, / В себе как в тюрьме. // Мир - это стены. / Выход - топор. / <…> (Только поэты / В кости - как во лжи!) // Нет, не гулять нам, / Певчая братья, / В теле как в ватном / Отчем халате. // Лучшего стоим. / Чахнем в тепле. / В теле - как в стойле. / В себе - как в котле. // Бренных не копим / Великолепий. / В теле - как в топи, / В теле - как в склепе, // В теле - как в крайней / Ссылке - зачах. / В теле - как в тайне, / В висках - как в тисках. // Маски железной» [Цветаева II: 254].
Живая плоть наделяется признаками останков, скелета: «(Только поэты / В кости как во лжи!)». Это темница «я» (по крайней мере, возвышенного «я» поэтов), «я» же в данном случае, по-видимому, тождественно душе. Представление о некоем единстве, сращенности тела и души не просто отвергнуто. Такое представление подано как расхожее, обыденное (=мещанское) и, вероятно, как ложное (=актерское) понимание: «("Мир - это сцена", / Лепечет актер. // И не слукавил, / Шут колченогий. / В теле - как в славе, / В теле - как в тоге» [Цветаева II: 254]. Более того, такое понимание интерпретируется как бесовское, дьявольское: «актер именуется «колченогим», хромоногим; а по мифологическим представлениям, хромоног дьявол. В народном средневековом сознании актер причастен дьявольскому, «теневому» миру, а слово «шут» в разговорной речи и сейчас может использоваться как эвфемизм, заменяющий лексему «черт». Ср. примеры у В.И.Даля: «Шут и вор, шýтик, черт. Шут его бери! Ну его, к шуту! || всякая нéжить, домовой, леший, водяной <…>. || Шут, паралич конский, приписываемый несдружливому домовому, коли лошадь не ко двору [ср. колченогость шута в стихотворении М.Цветаевой. - А.Р., А.Б. ]. Он уже до шутиков допился, до чертиков. Не шут (не черт) совал (сажал, толкал, копал), сам попал! Шут (бес), шут, поиграй да опять отдай! (приговаривают, потеряв что-либо)» [Даль IV: 650].
Близкая интерпретации тела и «я» выражена в стихотворении «Пела как стрелы и как морены…»: «- Пела! - и целой стеной матрасной / Остановить не мог / Мир меня. / Ибо единый вырвала / Дар у богов… бег! // Пела как стрелы. / Тело? / Мне нету дела» [Цветаева II: 241]. Здесь оппозиция «тело - душа (я)» заменена оппозициями «тело - пение (песня)» и «тело - бег», причем пение и бег являются атрибутами «я» в его не- и анти-телесности. Пение и бег мыслятся как «преодоление» телесности.
Иной вариант отношений между телом и душой содержится в стихотворении «Квиты: вами я объедена…», завершающем цикл «Стол». Тело и душа соприродны, изоморфны друг другу. Душа, наделенная грубой витальной телесностью, - это душа мещанина, обывателя. Смерть обывателя представлена в традиционном культурном коде, подвергнутом индивидуальной цветаевской трансформации. Это разделение души и тела, однако, иллюзорное. Душа обывателя «гипертелесна»: «Каплуном-то вместо голубя / Порх! - душа при вскрытии» [Цветаева II: 314]. Тело мещанина - некая оболочка, в которой скрыта не менее плотская «душа»-каплун. Его тело подобно пирогу, из которого вылетали живые птицы на пиру у Тримальхиона в «Сатириконе» Петрония. Знаменательно противопоставление концепта голубь , наделенного духовными и сакральными коннотациями (символ Святого Духа) каплуну , их лишенному. С помощью мнимо духовного («душа») здесь закодировано телесное или, точнее, без- и внедуховное. Напротив, в случае смерти лирической героини, «я» - творца, поэта изоморфность души и тела выражена в том, что тело наделяется метафорическими атрибутами души и ангела как бесплотного существа (крылья ). Сходным образом в стихотворении «Душа» душа поэта наделяется атрибутом «нестикрылости», присущим серафиму (здесь очевидна аллюзия на стихотворение Пушкина «Пророк»): «Шестикрылая, ра - душная, / Между мнимыми - ниц! - сущая, / Не задушена вашими тушами / Ду - ша» [Цветаева II: 164]. В стихотворении «Квиты: вами я объедена…» тело обозначает душу, телесная нагота указывает не на саму себя, но на раскрытие, «обнажение» души в теле: «А меня положат - голую: / Два крыла прикрытием» [Цветаева II: 314].
Противоречие между трактовкой смерти как перехода в небытие в цикле «Надгробие» и осмыслением ее же в ряде других стихотворений М.Цветаевой как освобождения, вероятно, мнимое. В цикле «Надгробие» и прежде всего в стихотворении «Напрасно глазом, как гвоздем…» смерть увидена с внешней точки зрения, в ее значимости для того, кто остается жить. С этой точки зрения, уход человека (другого) из этого мира воспринимается как полное уничтожение. Но с точки зрения внутренней (умершего, уходящего), умирание есть не полное стирание «я», но его высвобождение, обретение высшей свободы и покоя.
Амбивалентная семантика тела (как элемента, контрастного «я» и как квинтэссенции) «я» в поэзии М.Цветаевой связана с тем, что тело может наделяться и признаком анти-духовности, и духовным содержанием. Собственно, можно говорить о существовании в цветаевских текстах двух различных концептов тело . Особенностью стихотворения «Настанет день - печальный, говорят!» является оппозиция двух тел «я», при этом ни одно из них не наделяется однозначными оценочными смыслами. Утрата героиней в смерти страстности также лишена однозначной оценки в отличие от случаев, когда страстность, чувственность либо оценивается позитивно, как духовное начало (например, в «Магдалине»), либо негативно, как некая неполнота и ущербность (например, в цикле «Хвала Афродите» и в стихотворении «Эвридика - Орфею»). Семантический конфликт в цветаевских текстах, как правило, происходит между планом выражения и планом содержания. Так, в стихотворении «Эвридика - Орфею» «бессмертье», или по-смертье обозначено метафорой, ассоциирующейся с умиранием: «С бессмертья змеиным укусом / Кончается женская страсть» [Цветаева II: 183]. Но при всей парадоксальности жизни мертвых в их «призрачном доме» это посмертное существование представлено здесь как несомненная данность, ценностно превосходящее земное бытие. В стихотворении «Настанет день - печальный, говорят!» такой однозначности нет, и конфликтом смыслов охвачен план содержания.
Литература
Гаспаров 1982 - «Поэма воздуха» Марины Цветаевой: опыт интерпретации // Труды по знаковым системам. Вып. XV. Тарту.
Даль I-IV - Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М., 1995 [репринт изд. 1880-1882 гг.].
Деринг-Смирнова, Смирнов 1982 - Деринг-Смирнова И.-Р., Смирнов И.П. Очерки по исторической типологии культуры: … → Реализм /…/ → Постсимволизм / Авангард →… . Salzburg.
Ельницкая 1990 - Ельницкая С. Поэтический мир Цветаевой: конфликт лирического героя и действительности // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 30.
Маймескулов 1992 - Majmieskułow A. Провода под лирическим током. (Цикл Марины Цветаевой «Провода»). Bydgoszcz.
Маймескулов 1995 - Majmieskułow A. Стихотворение Цветаевой «В седину - висок…» // Studia Russica Budapestinensia. Vol. II-III. Budapest.
Ревзина 1977 - Ревзина О.Г. Из наблюдений над семантической структурой «Поэмы конца» М.Цветаевой // Труды по знаковым системам. Вып. IX. Тарту.
Смирнов 1977 - Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.
Фарыно I-III - Faryno J. Введение в литературоведение. Wstęp do literaturoznawstwa. Ч. 1-3. Katowice, 1978-1980.
Фарыно 1978 - Faryno J. «Бессонница» Марины Цветаевой (Опыт анализа цикла) // Зборник за славистику. Броj 15. Novi Sad.
Фарыно 1985а - Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» - «Царь-Девица» - «Переулочки») // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 18. .
Фарыно 1985б - Faryno J. Zarys poetyki Cwietajewej // Poezja. No 3 (229).
Фарыно 1986 - Faryno J. «Бузина» Цветаевой // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 18.
Фарыно 1987 - Faryno J. Стихотворение Цветаевой «Прокрасться…» // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 20.
Фарыно 1991 - Faryno J. Введение в литературоведение. Wstęp do literaturoznawstwa. Wydanie II poszerzone i zmienione. Warszawa.
Цветаева I-VII - Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994.
© Все права защищены
Телесный код в стихотворении Марины Цветаевой «Настанет день – печальный, говорят!»
Настанет день – печальный, говорят!
Отцарствуют, отплачут, отгорят,
– Остужены чужими пятаками –
Мои глаза, подвижные как пламя.
И – двойника нащупавший двойник –
Сквозь легкое лицо проступит лик.
О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!
А издали – завижу ли и Вас? –
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.
На ваши поцелуи, о живые,
Я ничего не возражу – впервые.
Меня окутал с головы до пят
Благообразия прекрасный плат.
Ничто меня уже не вгонит в краску,
Святая у меня сегодня Пасха.
По улицам оставленной Москвы
Поеду – я, и побредете – вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, –
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.
Тело и телесное – значимая сфера культуры и, соответственно, особенный элемент поэтики художественного текста: телесное может обозначать различные смыслы, оно не является асемантичным, не равно самому себе. Исключительно важную роль тело и его органы играют в поэтике так называемого «исторического авангарда», к которой принадлежит и творчество М. Цветаевой. На первый взгляд семантика тела в анализируемом стихотворении Цветаевой традиционна для христианской традиции; ее можно описать теми же словами, какими Е. Фарыно охарактеризовал трактовку тела в цветаевском поэтическом цикле «Бессонница»: «<…> “я” постепенно теряет свою телесность и приближается к статусу ангелоподобного бесплотного существа (“как серафим”, “я гость небесный”)». Индивидуально цветаевскими инвариантными мотивами являются не такое отчуждение от собственного тела, а вбирание мира в себя («раковинная природа» «я») и истолкование чувственного начала как неотъемлемого свойства, присущего мифологическому естеству «я».
Действительно, в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» прежнему состоянию страстности, обозначенному «пламенем» горячих (ныне «остуженных ») глаз и «поясом» («пояс» ассоциируется с неприступностью, целомудренностью или девственностью – ср. символику развязывания пояса в античной поэзии), противопоставлены теперешние бесстрастность, «благообразие», достигнутые в смерти. Обретенное героиней бесстрастие-благообразие может интерпретироваться как вариант «существеннейшей в поэтической системе Цветаевой семантики отказа от пола». Наделение руки лирической героини признаком не-существования («к моей руке, которой больше нет») – средство обозначить именно такое отчуждение «я» от собственного тела, ставшего бесчувственным и потому не-реальным, по крайней мере в сравнении с прежним, досмертным состоянием. Тело, преображенное смертью, приобретает признаки святости. Прежде всего, это свойство выражено в оппозиции «лицо – лик»: церковнославянизм «лик» в данном контексте, в описании погребения и рядом с упоминанием о Пасхе, наделен сакральными коннотациями; «лик» – это образ, икона и это просветленное божественным духом лицо святого. Синоним слова «икона» – «образ» – зашифрован в лексеме «благообразие», воспринимающейся как окказиональное производное от образа-иконы: «О, наконец тебя я удостоюсь, / Благообразия прекрасный пояс!»; «Меня окутал с головы до пят / Благообразия прекрасный плат». Употребление слова «лик» в цветаевской поэзии и в других случаях связано с семантикой преображения, «истончения» плоти, отрешения от земного мира и его страстей: «Нежно светлеют губы, и тень золоче / Возле запавших глаз. Это ночь зажгла / Этот светлейший лик, – и от темной ночи / Только одно темнеет у нас – глаза» («После бессонной ночи слабеет тело…» из цикла «Бессонница» ). Целование руки покойной, очевидно, наделено признаками приложения к мощам святой: не случайно провожающие умершую лирическую героиню названы паломниками : «Паломничество по дорожке черной».
Такая семантика телесного кода может показаться тривиальной; не тривиально в ней лишь самоопределение лирической героиней себя как святой. Однако на самом деле механизм смыслопорождения в стихотворении намного более сложен, а значения, передаваемые с помощью телесного кода, внутренне противоречивы, амбивалентны.
Прежде всего, новое (святое ) тело, обретенное лирической героиней, не есть в полной мере ее, не принадлежит ей: руки «больше нет», а значит, в экзистенциальном смысле нет теперь и ее тела. Иконописный лик святого мыслится как выражение в нем неизменного, вечного, божественного, то есть сущностного. А в цветаевском тексте «лик» назван «двойником» «лица» живой героини, – двойничество же означает не сущностное тождество, а лишь повторение похожего или одного и того же, ассоциируется с узурпацией и подменой. М. Цветаева наделяет «лицо» эпитетом «легкое», имеющим несомненные позитивные коннотации, ассоциирующимся со свободой от материи, от плотской тяжести; традиционное ожидание требовало бы скорее, чтобы такой признак был присущ «лику». Лишенный эпитета «легкий», в соотношении с «лицом» «лик» воспринимается как его антоним, как нечто тяжелое. Тяжелый лик вызывает ассоциации с маской, в том числе посмертной. Маска же инородна по отношению к лицу и к «я». Впрочем, в тексте содержатся и указания на возможность традиционной интерпретации соотношения земной плоти и плоти преображенной. «Легкое» может иметь и пейоративные коннотации, как легковесное. А проступание «лика» сквозь «лицо» позволяет истолковывать бренную плоть «я» только лишь как оболочку для истинной сущности. «Легкое лицо» – это истончающаяся в смерти плоть, через которую и проступает неизменный, вечный лик. Однако представляется несколько неожиданным, что плоть/лицо служит оболочкой для иной плоти/лика, а не для души, как это было бы в традиционном случае. Цветаевская героиня словно бы наделена двойным телом – до– и по-смертным.
Лексема «нащупавший» в применении к «лику» ощущается также как неожиданная. Это слово, обозначающее тактильные ощущения, ассоциируется со слепотой: нащупывает нечто слепой, тот, кто лишен зрения. И действительно, «лик» в стихотворении Цветаевой слеп: ведь у него нет глаз, которые «отгорели»; их заменяют холодные и «чужие» пятаки. Преображение тела святого, его нетление в христианской традиции связывается с просветлением. Между тем в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» «лик» скорее темный, чем светлый. Семантика темноты, не-света и пейоративные коннотации, связанные со смертью и погребением героини, очевидны в эпитете «черная» из следующей строфы: «Потянется, растерянно крестясь, / Паломничество по дорожке черной».
Свет, имеющий в поэзии М. Цветаевой высокий ценностный смысл, в своем роде сакральный, представлен как атрибут лирического «я», обладающего светоносным взглядом; пример: я – световое око в поэме «Попытка комнаты». По наблюдениям Е. Фарыно, для М. Цветаевой характерны оппозиции «око – глаз» и «око – зрак», в которых первый элемент получает коннотацию «сакральное», а второй – «демоническое».
Впрочем, в цветаевской поэзии слепота, незрячесть может приобретать и позитивный смысл отрешенности от внешнего, поверхностного, суетного, она выражает взгляд «я» внутрь себя: «На ложе из лож / Сложившим великую ложь лицезренья, / Внутрь зрящим – свидание нож» («Эвридика – Орфею» [Цветаева II; 183]; слепота – метафорический эквивалент высшего зрения поэта: «Что же мне делать, слепцу и пасынку, / В мире, где каждый и отч и зряч» («Что же мне делать, слепцу и пасынку…» из цикла «Поэты» ).
Смерть в стихотворении М. Цветаевой «Настанет день – печальный, говорят!» наделена двойственной, амбивалентной семантикой. Она может быть истолкована как освобождение духовного начала. Сама физическая, плотская кончина парадоксальным образом связывается с воскресением, она именуется Пасхой: «Святая у меня сегодня Пасха». Написание стихотворения действительно приурочено к Пасхе 1916 года, и это событие является не чисто биографическим обстоятельством, а текстовым фактором: дата написания намеренно указана автором. Эта метафорическая «Пасха» лирической героини вызывает ассоциации с истинной Пасхой – Воскресением Христовым и потому приобретает коннотации побежденной, преодоленной, не-абсолютной смерти. «Благообразия прекрасный плат», наделенный такими оттенками значения, как новое, преображенное, чуждое страстей тело , в свете этой христологической параллели соотносится с погребальной плащаницей Христа: это ткань, в которую заворачивают тело («с головы до пят»). Кроме того, он, вероятно, ассоциируется и с покровом Богоматери, как пояс – с ризами Приснодевы Марии. Плат в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» также – метафора тела, как в стихотворении «О путях твоих пытать не буду» из цикла «Магдалина» тело героини уподоблено плащанице, в которую было завернуто тело снятого с креста Иисуса Христа: «Я был наг, а ты меня волною / Тела – как стеною / Обнесла» (II; 222). Имплицитно в этом образе также содержится и параллель с символом Богоматери – Нерушимой Стены. (В других контекстах у Цветаевой «покров» может означать тело человека – отринутое, отброшенное в смерти: «Для тех, отженивших последние клочья / Покрова (ни уст, ни ланит!..)» – «Эвридика – Орфею» .)
В предпоследней строфе стихотворения благодаря грамматической конструкции предложения погребальная процессия, в которой мертвое тело – объект, а не субъект действия, предстает путешествием живой героини: «По улицам оставленной Москвы / Поеду – я, и побредете – вы». Нейтральная, нормативная конструкция была бы иной: меня повезут . Мотив причастности героини миру живых, а не мертвых создается также благодаря грамматическому параллелизму конструкций, описывающих погребаемую героиню и провожающих ее живых людей. Выражение «себялюбивый, одинокий сон» в стихах «И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон» – это вариация традиционной метафоры «жизнь есть сон, смерть – пробуждение», свидетельствующая также об относительности смерти и о ее возможном восприятии как некоего блага, освобождающего от иллюзорных притязаний эгоистического земного «я».
Но одновременно смерть, о которой говорится в этом стихотворении, может быть истолкована и как уничтожение «я». На это указывает не только упоминание об угасших глазах (зеркале души ), разрыв между «лицом» живой и «ликом» мертвой героини и отчуждение от собственного тела, метонимически обозначенное «рукой, которой больше нет». Вечный покой, бесстрастность может интерпретироваться не только как духовное состояние святой, но и как бесчувственность умершей, мертвого тела. Посмертное тело лирической героини ей, ее «я» не принадлежит. Не случайно говорится только о теле, но не о душе покойной: подразумеваемая душа или уже вне тела, или перестала существовать. По крайней мере, уничтожению подверглось «я» героини – страстное и потому немыслимое вне тела. Если оставшееся тело и наделено некими чертами святости, неотмирности, вечности/нетленности, то это в экзистенциальном смысле не ее тело. Смерть – одновременно преображение и уничтожение тела. Разделяя душу и тело, она ведет к уничтожению, стиранию «я» и к возникновению бестелесного тела, бесплотной плоти. Изначально героиня как будто бы стремится к освобождению от страстей: «О, наконец тебя я удостоюсь, / Благообразия прекрасный пояс!» Но обретенное ею состояние оказывается либо безусловной смертью, либо покоем и бесчувствием нового, другого тела, которому соответствует другое «я»: через двойничество тел обозначены два разных «я».
Такому телесному и душевному/духовному двойничеству соответствует дуальный характер темпоральной структуры текста. Смерть/преображение представлено то как событие воображаемого будущего: «Настанет день»; «Отцарствуют <…> мои глаза»; «проступит лик»; «Потянется <…> паломничество»; «не возражу»; «не вгонит в краску»; «Поеду – я»; «И первый ком о крышку гроба грянет»; «И наконец-то будет разрешен себялюбивый, одинокий сон», то как событие, совершившееся в недавнем прошлом: «Меня окутал с головы до пят / Благообразия прекрасный плат». Грамматические формы настоящего времени в строках «К моей руке, с которой снят запрет, / К моей руке, которой больше нет» имеют перфектное значение, указывая на смерть как на недавно произошедшую. Восприятие своей кончины как совершившейся в прошлом, по-видимому, отражает точку зрения «я», перешедшего в вечность; земное «я» мыслит эту кончину как принадлежащую будущему. В настоящем времени финальных стихов «И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине» оппозиция «прошлое – будущее» снята, соответственно, земное и потустороннее, посмертное «я» обретают здесь некое условное единство, будучи обозначенными именем собственным героини и автора. Показательно, что семантически выделенная часть стихотворения – последняя строфа, завершающаяся итоговым pointe, – это описание не освобождения, не преображения тела героини, но его погребения: «И первый ком о крышку гроба грянет, – / И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон. / И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине». Пасха лирической героини – не воскресение, а непреодолимая смерть. Параллель с Христом, но не воскресшим, а ведомым на распятие, прослеживается и в последней строке стихотворения: как ученики отвернулись от Спасителя, так и провожающие героиню в последний путь не все доходят до могилы: «И не один дорогою отстанет». В противоположность Христу героиня Цветаевой не воскресает и не воскреснет: ее Пасха – это и есть ее смерть.
Знаменательна замена в последней строке личного местоимения первого лица «я» и производных от него форм «мои», «моей» выражением «болярыня Марина»: эта замена означает одновременно отчуждение «я» от себя самого (взгляд на себя извне) и не-существование, исчезновение «я».
Итак, смерть в стихотворении М. Цветаевой представлена, с одной стороны, как преображение, с другой – как переход в небытие. При первой трактовке метафизической или экзистенциальной иронии подвергнуты знаки смерти, уничтожения, оказывающиеся ложными, несостоятельными. При второй трактовке трагическая ирония обволакивает образы воскресения (Пасхи), преображения. Такая амбивалентность присуща цветаевскому тексту и в другом случае: двойственной семантикой в нем наделено целование рук. Это и эротический поцелуй, поцелуй руки поклонником («Вы» как он , единственный, поцелуи, которые при жизни смутили бы героиню), и целование мощей/иконы.
Преображение/уничтожение лирической героини в смерти, представленное в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» как бы в сжатом виде соединяет несколько вариантов соотношения «я», души и тела, свойственных цветаевской поэзии. Трактовка смерти как разделения души и тела, приводящая к небытию, к развоплощению, представлена в первом и втором стихотворениях из цикла «Надгробие». Ни погребенное в земле тело (кость), ни вознесшаяся в небесные сферы душа не воплощают, не сохраняют умершее «я»: «Нет, никоторое из двух: / Кость слишком – кость, дух слишком – дух»; «Не ты – не ты – не ты – не ты. / Чт? бы ни пели нам попы, / Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, – / Бог – слишком Бог, червь – слишком червь»; «На труп и призрак – неделим!» (II; 325–326). М. Цветаева, полемизируя с державинской духовной одой «Бог», где человек мыслится одновременно как бог (то есть духовное начало) и червь (телесное начало, слабость, смертность), утверждает, что «Бог» и «червь», дух и мертвая плоть в их разделенности никак не причастны «я» человека. При этом речь идет скорее не об отрицании бессмертия души, но именно о том, что она не есть «я» умершего.
Однако наряду с трактовкой смерти как перехода «я» в абсолютное небытие в лирике Цветаевой содержится интерпретация истинной жизни «я» как непричастности материальному, «телесному» миру: смерть в этом случае мыслится как освобождение: «А может, лучшая победа / Над временем и тяготеньем – / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени // На стенах… / <…> / Распасться, не оставив праха // На урну…» («Прокрасться…» ). Не-оставление следа в материальном мире, в том числе и после смерти, мыслится не как не-существование, но как бытие истинное. Смерть в таком случае должна быть квинтэссенцией освобождения.
Сходная трактовка смерти как освобождения, как желанного развоплощения дана в цикле стихотворений «Дочь Иаира», полемически «переписывающем» евангельский сюжет о воскрешении умершей девицы Христом. У Цветаевой воскрешение – не благо, а зло или опрометчивое и недолжное деяние (ср. сходную трансформацию в ее творчестве мифа о приходе Орфея в Аид, чтобы вывести из царства смерти Эвридику): «В просторах покроя – / Потерянность тела, /, Посмертная сквозь. // Девица, не скроешь, / Что кость захотела / От косточки врозь» (II; 96). Смерть мыслится здесь как освобождение, утрата тела, к которой стремится, которой жаждет плоть (кость ). Смерть истолкована и описана как преображение плоти, превращение ее в тонкую проницаемую материю («сквозь» здесь окказионализм, существительное). Мертвая плоть наделяется знаком особенной интенсивной жизненности – загаром: «С дороги не тронется / Отвесной. – / То Вечности / Бессмертный загар» (II; 97). Этот же образ смертно-бессмертного загара встречается в стихотворении «На пушок девичий, нежный…», написанном в одно время с «Дочерью Иаира»: «На пушок девичий, нежный – / Смерть серебряным загаром» (II; 97). Парадоксальное сближение смерти и загара мотивировано трактовкой смерти как сожжения и самосожжения (ср. в лирике М. Цветаевой самоидентификацию «я» с Жанной д’Арк, сжигаемой на костре).
Традиционный концепт тела как противоположности духу и душе, восходящий, по-видимому, к платоновской и неоплатонической и к связанной с ними гностической философским системам, представлен в стихотворении «Жив, а не умер…»: «В теле как в трюме, / В себе как в тюрьме. // Мир – это стены. / Выход – топор. / <…> (Только поэты / В кости – как во лжи!) // Нет, не гулять нам, / Певчая братья, / В теле как в ватном / Отчем халате. // Лучшего стоим. / Чахнем в тепле. / В теле – как в стойле. / В себе – как в котле. // Бренных не копим / Великолепий. / В теле – как в топи, / В теле – как в склепе, // В теле – как в крайней / Ссылке. – Зачах! / В теле – как в тайне, / В висках – как в тисках // Маски железной» (II; 254).
Живая плоть наделяется признаками останков, скелета: «Только поэты / В кости – как во лжи!» Это темница «я» (по крайней мере, возвышенного «я» поэтов), «я» же в данном случае, по-видимому, тождественно душе. Представление о некоем единстве, сращенности тела и души не просто отвергнуто. Такое представление подано как расхожее, обыденное (=мещанское) и, вероятно, как ложное (=актерское) понимание: «(“Мир – это сцена”, / Лепечет актер.) // И не слукавил, / Шут колченогий. / В теле – как в славе, / В теле – как в тоге» (II: 254). Более того, такое понимание интерпретируется как бесовское, дьявольское: актер именуется «колченогим», хромоногим; а по мифологическим представлениям, хромоног дьявол. В народном средневековом сознании актер причастен дьявольскому, «теневому» миру, а слово «шут» в разговорной речи и сейчас может использоваться как эвфемизм, заменяющий лексему «черт». Ср. примеры у В.И. Даля: «Шут и вор, шутик, черт. Шут его бери! Ну его, к шуту! || всякая нежить, домовой, леший, водяной <…>. || Шут, паралич конский, приписываемый несдружливому домовому, коли лошадь не ко двору (ср. колченогость шута в стихотворении М. Цветаевой. – А.Р., А.Б. ). Он уже до шутиков допился, до чертиков. Не шут (не черт) совал (сажал, толкал, копал), сам попал! Шут (бес), шут, поиграй да опять отдай! (приговаривают, потеряв что-либо)».
Близкая интерпретация тела и «я» выражена в стихотворении «– Пела как стрелы и как морены…»: «– Пела! – и целой стеной матрасной / Остановить не мог / Мир меня. / Ибо единый вырвала / Дар у богов… бег! // Пела как стрелы. / Тело? / Мне нету дела» (II; 241). Здесь оппозиция «тело – душа (я)» заменена оппозициями «тело – пение (песня)» и «тело – бег», причем пение и бег являются атрибутами «я» в его не– и антителесности. Пение и бег мыслятся как «преодоление» телесности.
Иной вариант отношений между телом и душой содержится в стихотворении «Квиты: вами я объедена…», завершающем цикл «Стол». Тело и душа соприродны, изоморфны друг другу. Душа, наделенная грубой витальной телесностью, – это душа мещанина, обывателя. Смерть обывателя представлена в традиционном культурном коде, подвергнутом индивидуальной цветаевской трансформации. Это разделение души и тела, однако, иллюзорное. Душа обывателя «гипертелесна»: «Каплуном-то вместо голубя / Порх! – душа при вскрытии» (II; 314). Тело мещанина – некая оболочка, в которой скрыта не менее плотская «душа»-каплун. Его тело подобно пирогу, из которого вылетали живые птицы на пиру у Тримальхиона в «Сатириконе» Петрония. Знаменательно противопоставление концепта голубь , наделенного духовными и сакральными коннотациями (символ Святого Духа), каплуну , их лишенному. С помощью мнимо духовного («душа») здесь закодировано телесное или, точнее, без– и внедуховное. Напротив, в случае смерти лирической героини, «я» – творца, поэта изоморфность души и тела выражена в том, что тело наделяется метафорическими атрибутами души и ангела как бесплотного существа (крылья ). Сходным образом в стихотворении «Душа» душа поэта наделяется атрибутом «шестикрылости», присущим серафиму (здесь очевидна аллюзия на стихотворение Пушкина «Пророк»): «Шестикрылая, ра – душная, / Между мнимыми – ниц! – сущая, / Не задушена вашими тушами / Ду – ша» (II; 164). В стихотворении «Квиты: вами я объедена…» тело обозначает душу, телесная нагота указывает не на саму себя, но на раскрытие, «обнажение» души в теле: «А меня положат – голую: / Два крыла прикрытием» (II; 314).
Противоречие между трактовкой смерти как перехода в небытие в цикле «Надгробие» и осмыслением ее же в ряде других стихотворений М. Цветаевой как освобождения, вероятно, мнимое. В цикле «Надгробие» и прежде всего в стихотворении «Напрасно глазом, как гвоздем…» смерть увидена с внешней точки зрения, в ее значимости для того, кто остается жить. С этой точки зрения, уход человека (другого) из этого мира воспринимается как полное уничтожение. Но с точки зрения внутренней (умершего, уходящего), умирание есть не полное стирание «я», но его высвобождение, обретение высшей свободы и покоя.
Амбивалентная семантика тела (как элемента, контрастного «я», и как квинтэссенции «я») в поэзии Цветаевой связана с тем, что тело может наделяться и признаком антидуховности, и духовным содержанием. Собственно, можно говорить о существовании в цветаевских текстах двух различных концептов тело . Особенностью стихотворения «Настанет день – печальный, говорят!» является оппозиция двух тел «я», при этом ни одно из них не наделяется однозначными оценочными смыслами. Утрата героиней в смерти страстности также лишена однозначной оценки в отличие от случаев, когда страстность, чувственность либо оценивается позитивно, как духовное начало (например, в «Магдалине»), либо негативно, как некая неполнота и ущербность (например, в цикле «Хвала Афродите» и в стихотворении «Эвридика – Орфею»). Семантический конфликт в цветаевских текстах, как правило, происходит между планом выражения и планом содержания. Так, в стихотворении «Эвридика – Орфею» «бессмертье», или по-смертье, обозначено метафорой, ассоциирующейся с умиранием: «С бессмертья змеиным укусом / Кончается женская страсть» (II; 183). Но при всей парадоксальности жизни мертвых в их «призрачном доме» это посмертное существование представлено здесь как несомненная данность, ценностно превосходящая земное бытие. В стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» такой однозначности нет, и конфликтом смыслов охвачен план содержания.
Из книги Мировая художественная культура. XX век. Литература автора Олесина Е«Моим стихам… настанет свой черед» (М. И. Цветаева) Искусство при свете совести Становление Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) как поэта связано в первую очередь с московскими символистами. Первый поэтический сборник «Вечерний альбом» с подзаголовком «Детство – Любовь –
Из книги К истокам Тихого Дона автора Макаров А ГГоворят свидетели-современники Из огромного числа свидетельств о борьбе казачества в годы гражданской войны, которые можно найти, например, на страницах донских газет и журналов тех лет, мы выбрали всего несколько. Они касаются наиболее важных для нашего исследования
Из книги Литературные заметки. Книга 1 ("Последние новости": 1928-1931) автора Адамович Георгий ВикторовичПОСЛЕ РОССИИ (Новые стихи Марины Цветаевой) Один из моих знакомых, поклонник Пушкина, классицизма и ясности «во что бы то ни стало», спросил меня на днях с едва заметной улыбкой:- Ну, как вам нравится новая книга Цветаевой?Мне было трудно ответить на вопрос. Я чувствовал в
Из книги Беглые взгляды [Новое прочтение русских травелогов первой трети ХХ века] автора Гальцова Елена ДмитриевнаПутешествия во время гражданской войны: дневниковая проза Марины Цветаевой Исторически дискурс отсутствия поддерживается Женщиной: Женщина оседла, Мужчина - охотник, странник […] Ролан Барт. «Отсутствующий». Фрагменты речи влюбленного Любовь! Любовь! Куда ушла
Из книги Бесы: Роман-предупреждение автора Сараскина Людмила Ивановна Из книги Избранные труды [сборник] автора Бессонова Марина Александровна Из книги Синтез целого [На пути к новой поэтике] автора Фатеева Наталья Александровна3.7. Поэтика противоречий Марины Цветаевой[**] Многие исследователи (О. Г. Ревзина, Л. В. Зубова, Вяч. Вс. Иванов, М. В. Ляпон) отмечали парадоксальность как отличительный принцип строения текстов М. Цветаевой. Однако при этом они признавали, что за цветаевскими
Из книги Перекличка Камен [Филологические этюды] автора Ранчин Андрей Михайлович«Куст» Марины Цветаевой и христианская символика «Куст» – пример стихотворений-двойчаток, у Цветаевой нередких. Две части соотносятся по принципу зеркальной симметрии: в первой говорится о тяготении куста к лирическому «я», о движении куста внутрь «я» поэта, причем
Из книги Литература 5 класс. Учебник-хрестоматия для школ с углубленным изучением литературы. Часть 2 автора Коллектив авторовЧитательская лаборатория О чем нам говорят «голоса» персонажей в произведении Ты уже знаешь, что в литературе персонажи очень часто разговаривают между собой. Ты можешь встретить в художественном тексте прямую речь: монологи и диалоги персонажей. Но мы помним, что
Из книги Из круга женского: Стихотворения, эссе автора Герцык Аделаида Казимировна«Печально начатый, печальный день…» Печально начатый, печальный день, Как пронесу тебя сквозь блеклые поляны? Твоим ланитам как верну румяна? Сотру ли скорбную с них тень? Ограблен ты безверием моим С утра. И вот бредешь, увялый, Согбенный старец и усталый, Еще не бывши
Из книги Собеседники на пиру [Литературоведческие работы] автора Венцлова Томас«Поэма Горы» и «Поэма Конца» Марины Цветаевой как Ветхий Завет и Новый Завет Две пражские поэмы Цветаевой - едва ли не кульминационная точка ее творчества. Они принадлежат к числу высших достижений в жанре русской поэмы XX столетия - жанра, отмеченного такими вехами, как
Из книги автораПочти через сто лет: К сопоставлению Каролины Павловой и Марины Цветаевой[**] Высоко несу свой высокий сан - Собеседницы и Наследницы! М. Цветаева, 1918. Никаких любовных лодок Новых - нету под луной. М. Цветаева, 1930. Каролина Павлова и Марина Цветаева - правда, в